
Когда мы говорим о наличии или отсутствии демократии в каком-либо обществе, то мы автоматически пропускаем это определение через призму личных ощущений. И фраза строится примерно так: «У нас с демократией беда. Вот я хотел, а мне...»
В принципе, логично и закономерно. Как и закономерен тот факт, что нам часто указывают на то, что все у нас демократией в порядке, просто нас она не касается. Как в старом анекдоте, помните?
Американец с русским спорит:
– Вот в Америке – настоящая свобода слова! Я могу днем спокойно выйти к Белому дому и крикнуть «Рейган идиот!», и мне за это ничего не будет!
– Подумаешь. Я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть «Рейган идиот!», и мне за это тоже ничего не будет.
«Как в Америках»
Помимо прямого перевода с древнегреческого как «власть народа», определением демократии является также учитывание мнения большинства. Ну и так уж повелось, что еще одним синонимом стала фраза «как в Америках». И сегодня я хочу рассмотреть один прекрасный случай попытки проецирования последнего на наши реалии. В нем прекрасно всё: и сама инициатива как проявление демократии, и ее провал как проявление ее же.
Итак, еще одной громкой инициативой Дональда Трампа при вступлении в должность стал возврат всех чиновников из теплых домашних условий в скучные офисы. Отмена удаленной работы госаппарата. Американские аппаратчики грустно вздохнули, переоделись и безропотно поплелись в бюро.
Вдохновившись авторитетным коллегой, президент Латвии решил попробовать повторить трюк в домашних условиях. Вызвал премьера и радостно предложил последовать примеру большого брата. Силиня кивнула и пошла доносить светлую мысль до административной общественности.
Казалось бы, что могло пойти не так? А что могло, то и пошло. Административный аппарат вежливо, но твердо попросил передать президенту, что как-нибудь без первых лиц разберутся, как им лучше работать. В общем, мягко намекнули, что не с тех новозападных ценностей Ринкевич меняться начать решил.
И можно сказать, что демократия в данном случае победила: большинство сказало, что с удаленки не уйдет. И никакой президент – ни свой, ни тем более чужой – нам не указ. На этом можно было бы и закончить. Но на самом деле это было только вступление.
А дома лучше?
Я предлагаю вспомнить, откуда в нашу жизнь пришло это самое «дома лучше» и к чему оно по итогам привело. История.
Принцип удаленной работы напрашивался уже давно. Выход в интернет общедоступен, видеоконференции давно уже позволяют проводить любые формы связи на любых площадках и в любых форматах: от телеинтервью до совещаний в прямом эфире. Нужен был просто инерционный толчок, чтобы человечество совершило шаг в кардинально новый уровень рабочих отношений.
Экстренно и бескомпромиссно дистанционка вошла в нашу жизнь с началом пандемии. Коронавирусные ограничения побудили множество сфер зажмуриться и шагнуть вперед: туда, куда вроде как давно хотелось, но было боязно.
Правительство, а следом педагоги, юристы, различные офисные работники, слой за слоем, устанавливали на телефоны и компьютеры приложения для видеосвязи и с головой уходили в бесконтактный контакт друг с другом и внешним миром. И – получилось.
Осторожно открыв глаза после пандемии, человечество поняло, что мир не рухнет, если мы будем выполнять свои функции из удобного домашнего кресла. И что для этого совсем необязательно утром тащиться через весь город и отсиживать в офисе положенные 8-9 часов. Ведь в любой работе важно что? Важен результат.
После отмены коронавирусных ограничений аналоговая реальность тихо, но настойчиво постучалась в двери. Мол, «дома хорошо, но на работе привычнее». И тут у взрослых людей включилось это детское «ну ма-ам....»
«Проектники» и «зарплатники»
Давайте все-таки еще раз попробуем разобраться, что это за зверь такой «работник на удаленке». Чтобы совсем не распыляться, поделим их на две базовые команды – «проектники» и «зарплатники».
К проектникам относятся все люди, работающие на результат. То есть любой человек, который обязуется выполнить условленный объем работы до определенного срока за оговоренную сумму денег. Условный редактор дает задание журналисту до понедельника написать статью на заданную тему. И его совершенно не должно беспокоить, будет он писать ее пять дней или час. Днем или ночью, в офисе или на пляже. В понедельник редактор откроет почту – прочтет готовую статью, и незачем ему вдаваться в подробности деталей достижения.
Зарплатник на его фоне смотрится довольно скучно. По сути, это человек, плоды труда которого вторичны в сравнении с уверенностью работодателя в том, что подчиненный неотлучно провел на рабочем месте прописанное в трудовом договоре количество часов. Тот самый «офисный планктон», как его пренебрежительно называют фрилансеры.
Этот человек никак не заинтересован сделать что-то быстрее, лучше, интереснее, вдумчивее. У него полностью отсутствует мотивация вводить какие-либо новые вводные в свой труд, поскольку отсидеть на работе в любом случае придется то же количество часов. А если ты за это время проявишь инициативу и сделаешь больше или лучше, то велика вероятность того, что уже завтра дневную норму поднимут до твоего нового рекорда. А там, не ровен час, начнут штрафовать за ее невыполнение.
Добавим еще важный факт: энтузиастов обоснованно не любят в коллективе, потому что подобных выскочек начальство норовит ставить в пример остальным, требуя от них того, в невозможности чего они столько лет убеждали вышестоящих. «Петя может, чем вы хуже?» – вот вам и новый приговор. Спасибо, Петя. Удружил.
Вывод напрашивается сам собой: первую группу определенно целесообразнее оставить в покое и отправить с глаз долой из сердца вон. Если они показывают хороший результат (а возможно – даже лучший, поскольку творят не «из-под палки»), то зачем насильно подрезать ребятам крылья и мариновать их в тесных офисах. К тому же присутствие этих самых «вольных птиц» зачастую не самым благотворным образом отражается на настроении остального «крепостного коллектива».
А вот со вторыми сложнее. Ясен-красен, что все эти ваши нововведения сразу вдребезги пополам разбивают фамильную вазу – символ фундаментальности и незыблемости рабочего процесса. Першат в горле не находящие выхода реплики «Почему опоздал?!», «Куда собрался?!», «Чего ворон считаешь? Работы мало? Сейчас добавлю!» и прочие, впитанные с молоком дедушки мотивационные кричалки настоящего начальника.
Ну ведь положа руку на сердце – знаем мы их. В кабинете одних на пять минут оставишь – они уже доску для презентации в стол для новуса переделывают. И, в конце концов, мы за что им деньги платим?!
Вот в этом моменте все становится очень запутанно и начинает очень сильно трясти всяческие устои прямыми противоречиями, с которыми очень сложно смириться в силу их взаимоисключаемости.
«Слуги народа»
Теперь вернемся к «слугам народа», с которых мы и начали весь этот сыр-бор. Сразу оговорюсь: под «государственными чиновниками» подразумеваются не только непосредственно депутаты Сейма. Имя им, на самом деле, – легион, который получает зарплату из государственного бюджета. А для упрощения разбора давайте возьмем за основу нашу «святую сотню». И они в числе прочих точно так же оказались перед вопросом – возвращаться в офис или работать дома. Но с небольшой поправкой: их прямым работодателем является народ. То есть – мы.
По сути, у среднестатистического человека нежелание госаппарата возвращаться на свои казенные рабочие места вызывает следующие эмоции:
-
какая разница, где они ни черта не делают;
-
нет уж. Раз деньги получают, пусть ездят на работу, а то ишь.
Окей, давайте разберем. Они говорят: «Нам так удобнее». Да наплевать нам, господа хорошие, как вам там удобно! Мы вам платим зарплату из нашего кармана не за ваш комфорт, а за то, чтобы вы делали нам хорошо. Так что вы уж сначала подумайте о нас, а потом просите, чтобы мы заботились о вашем комфорте.
Справедливо? Справедливо вроде. Но... Каким-то бессмысленным садизмом попахивает, правда? Вот отбрасывая эмоции, со стороны если посмотреть, как это звучит. Мы страдаем, вот и вы страдайте. Станет нам теплее на душе от того, что условных сто человек в 8 утра будут переться через весь город по пробкам в здание на Екаба, 16?..
А «за что?»
Давайте сразу признаем: на «креативных орлов» наши госчиновники не тянут. Возможно, я сейчас разобью кому-то сердце и несколько пар розовых очков, но давайте просто начистоту: все решения, которые так бурно обсуждаются на заседаниях парламента, принимаются до начала голосования. Да, это примерно как с другими естественными процессами: говорить об этом вслух не принято, хотя особо этого никто и не скрывает.
Чтобы осознать этот факт, не нужно знать тайны закулисья, достаточно просто посмотреть на схему устройства парламента. В Сейме Латвии работает 100 депутатов. Они делятся на фракции (принадлежность к партии), которые, в свою очередь, делятся на коалицию (большинство) и оппозицию (меньшинство). Отдельными единицами выступают «независимые депутаты» – парламентарии, которые в определенный момент после выборов вышли из своего партийного списка и действуют самостоятельно.
Довольно сложно предположить какие-либо разногласия в рядах одной партии, которые могут выразиться в неуверенности одного из ее членов на дебатах. Достаточно посмотреть итоги любого голосования парламента или просто почитать новости: обычно фракции голосуют единогласно. Да чего уж там – до начала заседания депутаты не скрывают ни того, как будет голосовать «наша фракция», ни осведомленности о том, как проголосует большинство, чуть ли не поименно.
И положа руку на сердце, давайте признаем, что решения «как голосовать» чаще принимаются из соображений имиджа партии, а не из соображений благополучия народонаселения. Иногда это совпадает – не спорю. Но таких сверхцелей почти никто не ставит. Это уже задание «со звездочкой».
То есть рассчитывать на то, что при личном контакте депутаты вдруг договорятся до чего-то диаметрально отличного, по меньшей мере наивно. По сути – дебаты в Сейме строятся по принципу Грушинского фестиваля, где все, конечно, аплодируют выступающим, но по факту – ждут своей очереди дорваться до гитары. А после меня – трава не расти.
Давайте прагматично размышлять: ведь если рассматривать их как людей, которым вообще на людей плевать и которые заботятся исключительно о собственном благополучии – логично же допустить мысль, что принимая решения дома, в уютном кресле, они могут смягчиться и принять более человеколюбивое решение, чем чертыхаясь за ненавистной и неудобной трибуной.
В общем, как бы там ни было: президент озвучил свое мнение, глава госканцелярии мягко дал понять, кто тут в доме папа, а окончательное решение вопроса повисло в воздухе. Говоря же о мнении народа – нельзя сказать, что оно никого не беспокоит: на платформе Manabalss.lv собрано более 10,5 тысячи подписей в пользу сохранения возможности удаленной работы в органах государственного управления и муниципальных учреждениях.
Давайте думать, что это – число неангажированных, неравнодушных граждан нашей страны, а не примерное число людей, которым лень вставать с дивана за наши деньги. К тому же всего, по официальным данным на сегодняшний день, на госдолжностях работает около 18 тысяч человек. Так что если и так, это означает, что не все еще проголосовали.
Если бы спросили лично мое мнение, то я бы сказал, что не против их перевода на удаленку, при условии поголовного перевода в касту проектников. Пусть хоть из дома, хоть из палаты делами занимаются. Но чтобы все результаты их работы оценивались по не предвзятому эталону «как должно быть в итоге» и чтобы оплата производилась не по часам, а по выполненной работе «под ключ». Включая, разумеется, штрафы за срыв графиков, выползание из сметы и прочие личные риски, которые помешали выполнить свою работу добросовестно. Если так – то глаза бы мои их не видели.
А сейчас, когда кабинеты пусты, а КПД каждого работника можно спокойно рассмотреть, не избегая личного зрительного контакта, главам различных госдепартаментов неплохо было бы заодно провести инвентаризацию и понять: не сколько лишних людей сегодня занимают лишние места в офисах и бюро, а сколько таких людей необоснованно отражаются в зарплатных листах. Потому что лично мне кажется, что 18000 чиновников на наше население – это как-то перебор.
Алексей Стетюха.











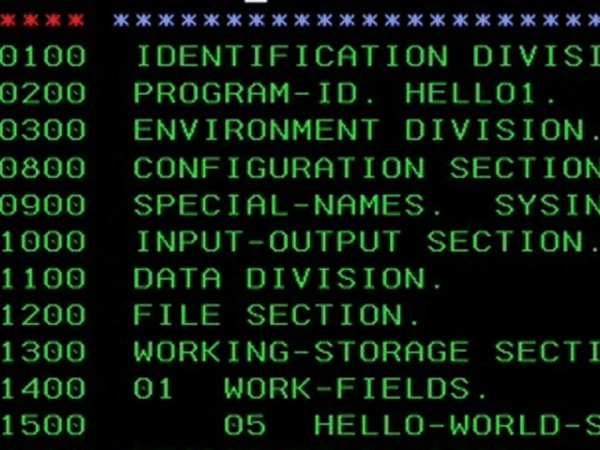



Оставить комментарий
(1)